ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ
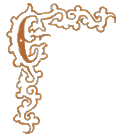
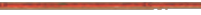
Вот уже злая зима опять, бушуя, вернулась.
Сивер встопорщенный мчится и всё живое стращает.
Глянь - озера, пруды и реку поверх затянуло,
Будто в них стекла повсюду стекольщик вставил искусно.
Глянь - обиталища рыб, где лягушки лето справляли,
Словно броней от зимы сварливой отгородились.
Всякая тварь ко сну там отходит нынче в потемках.
Сивер сердитый в полях расходился так, что повсюду
Закаменели болотца, морщины пошли по трясинам,
Хлюпать осенняя грязь под ногами вдруг перестала.
Если теперь понесется телега вскачь по дороге -
Словно тугой барабан по морозу гремит и грохочет,
И, далеко раскатясь, тот гул в голове отдается.
Время вновь подошло - встречать и чествовать зиму!
Ах, ведь и вправду пора: до святок - самая малость,
Минул рождественский пост, - ему конец послезавтра.
Осень слоном по ненастью шаталась с зари до заката,
Брызгала слякотью липкой и нам досаждала жестоко;
Каждый, когда обувал сапоги или клумпы сырые,
Осень люто бранил за эту мокрядь и слякоть.
Но и богатые баре, что скачут в каретах блестящих,
Изо дня в день по гостям разъезжают, наряжены пышно,
Тоже ругмя-ругали гнилую, мерзкую осень.
Вот почему неотступно на север люди глядели
И с нетерпеньем великим сухой зимы дожидались.
Вдруг пред закатом в полнеба заря занялась-запылала,
И замахали крылами смелей студёные ветры.
Непогодь к югу погнали, где аисты спят на зимовках.
Из облаков густых карга зима показалась,
Высунув голову, стала со слякотью скучной браниться,
За ночь из всех закоулков морозом вывела мокрядь,
Выгребла дрянь со дворов, чистоту навела на дорогах.
По зыбунам вековым протянула надежные гати
И на санях по снегам лететь и скользить научила.
Там, где, в преддверья весны, мы бродили с радостью в сердце,
Благоуханные травы и цветики пестрые рвали,
Там, где веселого лета погожие дни проводили, -
Сколько зима ухитрилась насыпать белых сугробов,
Зимних сколько цветов взрастила-понасажала.
Смотришь - и диву даешься: саженные бороды свесив,
Перед тобою стоят в кудрях, осыпанных снегом,
Высокорослые сосны, как баре в напудренных буклях.
Голый кустарник дрожит и гнётся меж них по-крестьянски,
Спину ломает в поклонах, челом к земле припадает,
Жалобно стонет, когда налетают ветры внезапно.
Но бурелом, и пни, и коряги также страшатся,
Только мехи раздувать начинает сивер жестокий,
Будто сквозь редкое сито колючий снег просевая.
Пусто в лесной глубине: ни зверей не видать, ни пернатых!
В пору, как полчища вьюг воюют, яростно воя,
Кто до весенних дней угнездился в теплой берлоге,
Кто на зальдевшем суку иль в дупле примостился и дремлет.
Милые пташки, и вам, как нам, приходится туго.
Так же и нас донимают морозы трескучие нынче.
Вас в ледяные леса загоняют метели и стужи,
Нас же, пробрав до костей, понуждают в жилье забираться,
К печке любезной присесть и греться целыми днями.
Ваши холодные гнезда, в которых пищите спросонья,
Ни от снегов, ни от стуж защитить не могут нисколько.
Мы, если лапою за нос зацепит нас походя сивер,
Прячемся тотчас в жилье, в уголок забиваемся теплый,
И над сердитой зимой потешаемся дружно и смело,
И поглощаем похлебку горячую, сидя у печки.
Ах, бедняки-горемыки, всегда вы голы и босы.
Стужа иль зной на дворе, ненастье ль стоит или вёдро,
Но постоянно на вас одна и та же одежда.
Мы, если жаркое солнце нам спины порой припекает,
Легкий кафтан надеваем, спешим безрукавку накинуть,
Если ж, бывает, мороз начинает щипать не на шутку,
Тут мы, конечно, кожух со стены поскорее снимаем
Или немедля в постель влезаем, чтоб лучше согреться.
Так размышлял я. Внезапно сбежалась волчья ватага,
Хором на все лады во тьме кромешной завыла.
Ах вы, разбойники-воры! Свежинки небось захотелось
Иль животы у вас с голодухи снова подводит?
Сивер жестокий! Гони их, по грязным спинам стегая,
Жги их, мороз, без пощады - пусть сгинут эти бродяги!
Сивер, к тебе прибегаем: ведь каждое милое лето
Рыщут они по полям и режут нашу скотину.
Вдруг на опушке лесной заприметив весёлое стадо,
Не разбирают они, жирна ль, худа ли скотина,
Также им всё равно - что боров, что поросенок,
Даже и хряков матёрых они задирают порою.
Но и свинины нажравшись, не знают они угомону:
Всё не насытятся, им не хватает говядины сочной.
Стельных и яловых резать коров тогда начинают,
Изо дня в день жадней и бесстрашней становятся воры
И наконец начинают травить и быков-шестилеток.
Сколько сгубили они пестравок, буренок, лысанок,
Сколько, сколько они задрали, в поле застигнув,
Статных бурых быков, степенных я важных соловых.
Часто она бугаев не боятся, рогатых и черных,
И в середину стада кидаются, злобно ощерясь.
Крик пастухов и пастушек нисколько воров не смущает,
Только на шаг-другой, не спеша, подаются к опушке
Вместе с добычей - и жрут, и жрут на глазах у кричащих.
Нас пожалей, зима, помоги в беде и несчастье!
Этак мы скоро совсем лишиться можем скотины,
Ну а потом, глядишь, и до наших семей доберутся, -
Наших ребят и жён растерзают волчьи ватаги.
Вы, лесники, и вы, егеря, бывалые люди,
Что не стреляете, если стрелять вам велено властью?
Или, скажите, король приказом каким запрещает
Людям травить волков и повсюду искоренять их?
Попусту, что ли, на то отпускают вам порох и пули?
А для чего в лесу, скажите, объездчиков держат,
Даже землей наделяют их всех, чтобы жили в достатке?
В лес по студёной поре воровать дрова приезжая,
С окороками корзинку в подарок крестьяне привозят,
Водки побольше подносят объездчику, чтобы молчал он.
Это обычный подвох, ведь объездчик, пьяный мертвецки,
После того забывает про лес, присягу и службу,
А между тем за стеной в лесу орудуют воры,
Рубят толстенные сосны, дубы, заповедные липы
Или стреляют лосей, домой отвозят добычу;
Тушу немедля свежуя, еще ухмыляются, шельмы!
«Кажется, - вымолвил Причкус, крестьян табаком угощая
И, по привычке своей, исподлобья на Кубаса глядя, -
Кажется, милости вашей теперь уж вдомек, что обманом
И воровством промышлять не пристало людям достойным.
Я ведь давненько солтыс и тесть мой - Блеберис мудрый;
Ваших проделок немало на барщине я нагляделся, -
Вот и словечко скажу я, приятели, вам в назиданье.
Много средь вас таких, что на барщину еле плетутся.
А за работу принявшись, едва шевелятся; другие
Словно к земле прирастают и, вовсе забыв о работе,
Всякую там небылицу соседу на ухо шепчут,
Трубку свою табачком то и дело один набивает
Или огонь из кремня высекает, сладко зевая;
Этот повозится малость, потом подастся в сторонку
И тихомолком, подлец, отыскав корзину соседа,
Словно голодный пес, чужие куски поедает,
Бурасов честное имя кругом срамя и пороча.
Если кого-нибудь часом еврейский плут или польский,
Как простака, обмануть, обобрать бесстыдно задумал
Или какой-нибудь немец, наврав, по немецкой манере,
Бар и крестьян равно надувает немилосердно,
Не удивляюсь ничуть - у него такова уж природа!
Что же подумать, когда встречаешь такого поганца,
Кто говорит по-литовски и жить начинает обманом,
Не замечая того, что подводит бураса бурас.
Не из-за наших ли плутней сегодня сетует столько,
Столько вздыхает везде лесников и объездчиков честных?
Слушать воистину страшно, когда на пирушку сойдутся
Бурасы наши порой и друг другу в плутнях несчетных
Вдруг признаваться начнут открыто и чистосердечно
И над своими грехами смеяться в шутку-забаву.
Кто лесника обдурил и этим хвалится, шельма,
Кто там объездчика за нос водил и хохочет, поганец,
Кто, ошалев от водки, как дурень, буркалы пучит,
Кто свалился под стол и уже подняться не в силах,
Но вороватых крестьян языком коснеющим славит.
Господи, боже ты наш, до какого мы дожили сраму,
Что за кромешная тьма одолела грешную землю!
Так в преисподнюю, смотришь, и лезут баре и слуги.
Бога поносит одни и над ним глумится, как может,
Вторит ему в угожденье другой, прощелыга и лодырь.
Третий, одной простоквашей и сорной крупою питаясь,
Тяжко кряхтя и стеная под грузом трудов непосильных,
Тоже над господом богом смеется, этакий вшивец!
Всюду он плачется, ноет, что баре людей угнетают,
Мол, из крестьян выжимать последнюю кровь не стыдятся.
Ну, а в харчевню-то, смотришь, во все лопатки несётся
И в понедельник еще потирает битую морду».
- «Ах, - отозвался Энские, у Кризаса кума сидевший, -
Право, не в меру сегодня ты к нам придираешься, Причкус.
Что ты с пристрастьем таким литовца-беднягу поносишь,
Всё говоришь об одном - об его плутовствах да и только.
Или не видел, что все одинаково грешны крестьяне,
Русский, и швед, и еврей поступают разве иначе?
Немец, который «вуй-вуй» спешит французу поддакнуть,
Если придется, людей околпачит не хуже француза.
Ты ведь и сам-то, брат, когда еще не был солтысом,
Часто с соседями вместе на этакий лад веселился:
Зимней порою в лес выезжая с нами в потемках,
Ясени или дубы не хуже нас воровал ты!
Кстати, умел ты хитро воровать, и поэтому сторож,
Как ни глядел, а, бывало, всегда в дураках оставался.
Нас же, нас, бедняков неразумных (стыдно и молвить!),
Сколько он раз накрывал и наказывал так беспощадно.
Что с воровством и обманом покончить, как видно, придётся».
- «Кажется, - вымолвил Сельмас, - обман никому не дозволен,
Ну, а литовцам подавно нечестными быть не пристало,
Знаете сами, как славит Литву любой чужестранец,
Сколько, чтоб нас поглядеть, наезжает в наш край иноземцев,
С мира всего небось любопытных понабежало.
К нам ведь не только одни пробираются немцы охотно,
Но и французов немало нас любит и жалует нынче.
Стали они за столом по-литовски болтать понемногу.
Смотришь, иные из них на литовский манер приоделись,
Лишь домотканые платья надеть никак не решатся.
Так что пора, соседи, дела дурные оставить, -
О плутовстве позабудьте, старайтесь быть попристойней.
Станут нас дружно тогда хвалить и чужие крестьяне.
Знаем, господь, преподав законы строгие людям,
Нам запретил обман, воровство запретил он любое,
Нам не позволил издревле господь в плутовстве изощряться.
Если Дочис или Йонас утащат нож у соседа
Иль на чужое добришко позариться вздумает Еке
И у Катрины тайком унесет хотя бы метелку,
Это уж грех - и великий, и так поступать не годится.
Ну, а какой же грех, если бурас присвоит колоду,
Или, сосну повалив, на дрова рубить ее станет,
Или могучий дуб повалит - расколет да в печку
Кинет - хлебы испечь или что сушить из одежды!
Разве каким-нибудь пнем в нужде не мог обойтись он?
Не обогрела бы разве валежника связка-другая?»
- «Хватит, соседушки, хватит, - ответил Причкус сердито, -
Складно сказали мы то, что уместно на сходке крестьянской,
Только про зиму придётся ещё покалякать маленько.
Знаете сами: огонь, что мы из кремня высекаем,
Пользу большую приносит, но также вред - и немалый.
Если, огонь разведя, шюпинис ты варишь, иль клёцки,
Или что вкусное жаришь, у печки пылающей сидя,
Жесткие мяса куски понемногу становятся мягки.
Как же приятно бывает тебе, утомленному за день,
Если вдобавок промок до костей от дождя или снега,
К печке горячей прижавшись, впадать понемногу в дремоту.
Плохо ли то, скажи, что огонь дал людям всевышний?
Нужно, конечно, дровец, если хочешь согреться получше,
Или сварить, иль поджарить чего на обед или завтрак.
Только подумай, приятель, о том, что было бы с нами,
Если б огня и дровишек совсем не водилось на свете, -
Месивом, верно, свиным нам пришлось бы тогда пробавляться.
Что бы мы делали, если б продрогли на лютом морозе
И не могли б приютиться у печки, натопленной жарко.
По полю бегали б мы, бедовали б, как дикие звери.
Не забывай же о том, человек, и, похлебку ли варишь
Или у печки горячей ты нежишься в полудремоте,
Благодари того, кто дал огонь и тепло нам.
Но не сердитесь, друзья, если я, по должности шульца,
Лишнее слово промолвлю, - послужит оно вам на пользу.
Этот дивный огонь, что жилье озаряет ночами
И заставляет вариться простые кушанья наши,
Иль хорошо нагревает очаг в холодную пору,
Слышите - этот огонь, коль за ним не присматривать в оба,
Много, ох, много бед натворить он может народу.
Страшная сила его, во тьме ночной возникая,
Испепеляет не только избенки крестьянские всюду,
Но и господских палат не щадит, - их мигом сжирает.
Разве не слышали вы о беде великой, соседи.
Что Караляучюс-город уже постигла двукратно?
Разве людей не встречали, огнем вконец разорённых,
Что по дворам побираться пошли с котомкою нищей?
В чём-нибудь каждый повинен: тотпечь затопил бестолково,
Сало поджаривал этот и сжег дотла свой домишко.
Ну, а меж нами-то сколько упрямых глупцов, что привыкли
По сеновалам да ригам шататься с раскуренной трубкой.
Спалит, помилуй господь, деревню этакий дурень,
Так что один лишь кол останется там от забора.
После же недруг такой, народу бед понаделав,
Мечется, словно разбойник, и места себе не находит, -
Прячется тут и там, и попробуй-ка с ним ты судиться,
Всё потеряв добро, по дворам чужим побираясь!
Разве не видели сами, как Кризаса, доброго друга,
В прошлом году спалил супостат Дочис ненароком?
Кризас, любезный сосед, человек, уважаемый всюду,
Гостя любого всегда был готов обласкать по-литовски.
Но особливо своих дорогих домочадцев любил он,
Их, как себя, жалел и об них радеть не ленился,
Не отягчал их тяжелым трудом, но, добросердечный,
Каждого после работы спешил попотчевать тут же
Вкусной и сытной похлёбкой, варёным и жареным мясом.
Диву даешься, когда начинает приказчик господский,
Лаурас, выхваливать нам его кладовые и кухню.
Этот чудесный дом спалил Дочис, как сказал я:
Трубку свою раскурил, да и спать потом завалился.
Кочет еще не кричал, а уже от соседского дома
Пепел остывший остался да пара жердей обгорелых.
Ах, дорогие соседи, мои любезные братцы!
Господа ради прошу вас - о Кризасе помните крепко.
Также, прошу, не дивитесь, его в лохмотьях увидя,
Если поклонится вам и руку, как нищий, протянет…
Станет он «Отче наш» читать - его не браните!
То, что с этим беднягой стряслось в полночную пору,
Может и с каждым из нас приключиться утром иль в полдень,
Если, как недруги-немцы, забудем о господе боге,
Если обманывать, красть мы тотчас не перестанем!
Ну, так учись, приятель, учись заботиться впору
О каждодневных нуждах в суровое зимнее время.
Ты обойдешься ль избушкой нетопленной в лютую стужу,
Станешь ли ты глотать холодный борщ или тюрю?
Нет! Так придется тебе высекать огонь постоянно
И на очаг разожженный горшочек с варевом ставить.
Но берегись, когда начинаешь растапливать печку,
Что-нибудь жаришь-печешь или вкусную варишь похлебку,
Чтоб самому себе и другим беды не наделать.
Ты ведь слыхал небось, как Дочис, обалдуй и упрямец.
Кризаса в горе большое и в стыд великий повергнул.
Не забывай потому в дымовые заглядывать трубы,
Исподволь сажу на них выскребай, как хозяин исправный.
Щепки на печь не клади и соседям класть не советуй.
Также сушить на печи не смей сырые поленья.
Знаете сами, какой приказ получен суровый.
Тотчас, без промедленья, начальство вешать готово
Всякого, кто из упрямства посмеет ослушаться старост;
Также неладное дело, хватясь чего-нибудь ночью,
Шарить с лучиной в руках по углам, где всякая рухлядь.
Либо ребят озорных оставлять без присмотра в избушке».
Тою порой, как селян поучал начальственно Причкус,
Выстрел вдруг такой прогремел поблизости где-то,
Что ходуном заходила земля от края до края
И на куски разлетелись в избушке новые стекла.
Выстрел услышав громовый иные селяне с испугу
Остолбенели и вмиг со скамеек попадали на пол.
Ну, а другие, что разум с грехом пополам сохранили,
Словно как пули, на двор понеслись из избы Плаучюнса,
И недалече Дуракса нашли, истекавшего кровью.
Что ж оказалось? Дочис захотел вороньего мяса,
Дал он бедняге ружье заряженное, чтобы немедля
Тот застрелил и принес ворон с десяток на ужин.
Парень-то был глуповат и в угоду воле хозяйской
Тотчас, как должно, с ружьем исполнять приказанье помчался.
Тут же, на крыше соседней увидев большую ворону,
Так неумело стрельнул, что пыжом сеновал подпалил он.
Вот - занялась изба; за ней - другая и третья,
А ружьецо разорвало - и парень-то сам поплатился.
Скоро об этой беде проведал также пан амтсрат,
Незамедлительно прибыл он с кучей своих челядинцев,
Стал он расследовать строго, что было причиной пожара.
Каждый, вздыхая и плача, спешил рассказать про Дочиса,
Каждый в рассказе своем поминал ворон неизменно.
Амтсрат, от всякого слыша одно и то же, в большую
Ярость пришел и Дочиса бранить принялся несусветно.
Мало того - преступленье сурово наказывать нужно, -
Тут же, по слову его, в кандалы заковали Дочиса
И на санях отвезли в тюрьму, чтоб суда дожидался.
Ровно на пятый день собрались почтенные судья
И отовсюду созвали свидетелей: шумной толпою
Тотчас на суд поспешили Энскис, и Милкус, и Лаурас,
И Лаурене, и Еке с подружкой своей Пакулене.
Встав до рассвета, соседи явились - с жалобой каждый,
Ну, а когда, наконец, расселись люди пристойно,
Страже судьи велели ввести Дочиса немедля.
Тяжко вздыхая, Дочис пред судилищем вдруг появился,
Строго его обо всем господа расспрашивать стали,
Точный допрос учиняя, как судьям правдивым пристало,
Также свидетелей всех допросили они по порядку
И говоривших правдиво почтили своей похвалою.
Но подбоченился дерзко Дочис (подумайте только!),
Он никому из судей на слова не дал промолвить.
«Судари судьи, - сказал он, - кому какая забота,
Если поджарить порой воронятины я пожелаю
И потому застрелю на обед ворону-другую.
Иль королевский закон истреблять ворон запрещает?
Знаю, меж наших литовцев балованных бурасов много
И батраков, кому не по вкусу яства такие.
Я же ничем не гнушаюсь, мне только бы мяса наесться.
Ну, так зачем вы хотите присвоить мой нищий кусочек, -
Иль не довольно того, что таскаю вам ножки вороньи
И, воробьев наловив двенадцать, как бурас примерный,
Головы им свернув, сдаю властям ежегодно?
Так что прошу я, хоть раз окажите высокую милость
И не корите меня, если душу потешить хочу я
И застрелить временами осмелюсь ворону-другую.
Вы, господа, по правде, крестьян вконец уходили,
Скоро останется нам за крыс да за сов приниматься».
Слушая речь таковую, стоял, опираясь на палку,
И несказанно дивился с другими солтысами Причкус.
«Эх, - там кто-то сказал, - времена какие настали,
Самоуправствует каждый, забыв о господском приказе,
Ближним, а пуще себе бесконечные беды приносит.
Мало ль пан амтсрат, скажите, нас всех поучал по-отцовски,
Ведь запрещал он из ружей стрелять во дворах деревенских.
Сколько священники в церкви, припомните, нас укоряли
В том, что наших господ не желаем слушаться ныне.
Вот и глядите-ка, братцы, какая беда приключилась!
Ах, Дочис, Дочис! Не хотел ты послушаться дельных,
Добрососедских советов, когда мы тебя вразумляли!
Что уж греха таить: господа, радетели наши,
Требуя денег всё больше, крестьян вконец обдирают,
Ежели пару ворон застрелил Дочис с голодухи
И на обед в горшке их мясо поганое варит.
Слушать об этом позоре не хочется, но посудите -
Как человеку прожить, когда с голодухи он пухнет?
Мы-то ведь знаем: нужда довести и до худшего может!
Только никак нельзя спустить и упрямцу, который
Без толку бьет из ружья и чужие дома поджигает».
Так сокрушались они. Вдруг вахмистра голос раздался.
Он в Караляучюс велел собираться солтысам немедля.
Вышел брюхастый Курпюнас, что был приказчиком главным,
Шапку стащил с головы и, начальству кланяясь низко,
В точности выполнить всё обещал, как слуге подобает,
После того созвал он двенадцать шульцев немедля,
Дал приказание людям - чрез пятеро суток явиться.
Волость Вижлаукская вся всполошилась от края до края
С самой зари потянулись крестьян несметные толпы -
Как в муравейнике всё встревожилось, зашевелилось.
Подданным разве пристало зевать да топтаться на месте?
Нужно стараться, когда прижимает их барская милость.
«Эх, - промолвил Лаурас, достойную речь начиная, -
Эх, времена-то какие для нас, соседи, настали!
С бурасов бедных три шкуры сдирая, каждый бездельник
Милость свою выхвалять перед ними ничуть не стыдится.
Каспарс (ведь знаете все вы, как нравом он крут, этот Каспарс),
Этот элодей окаянный, набравшийся спеси господской,
Словно колючий терновник, топорщится, бураса встретив.
Ну, а подручный его, Даугкалба, этот задира,
Ходит, горланит, как хочет, и нос высоко задирает.
Ах, как немного людей таких, кто, миром владея,
Подданных бедных жалеет и помнит о господе боге».
- «Ты, - отвечал ему Причкус, - ты Каспарса лучше не трогай!
Лучше помалкивай, если Даугкалба по уху смажет!
Нужная вещь - мехи, чтоб дуть на пламя печное,
Но бесполезны они, если, дуя ветру навстречу,
Думаешь остановить облака в их беге поспешном.
Может ли с мощным орлом воробей тщедушный поспорить?
Где уж ничтожной лягушке тягаться со львом-великаном?
Так что, любезный друг, не шути с господином спесивым
И, чтоб беды не накликать, держи язык за зубами».
Во всеуслышанье Причкус слова таковые промолвил,
Тотчас овчинную шубу надел он - шерстью наружу,
Амтсрата взял умолот, ни единого мига не медля.
И в Караляучюс поехал с другими солтысами вместе.
Амтсрат и вахмистру отдал приказ, чтоб с Причкусом ехал,
Чтобы за выручкой крепко присматривал с ним по дороге.
Нужно сказать, что был этот амтсрат скуп непомерно.
Если он изредка грош подавал бедняку, смилосердясь,
Спать по три ночи не мог потом и, встав на рассвете,
Слезы до вечера лил с досады так изобильно,
Что домочадцев брала порою оторопь даже.
Амтсрата верные слуги - Шлапьюргис и Сусукате-
Молвят, что их господин для того бедняков избегает,
Чтоб не досадовать ночью и слез не лить, ибо после
Каждый шиллинг пред ним предстает в сновиденьях тяжелых
И укоряет его до зари, как грех совершенный.
Также подручный, кто стелет постель всегда господину
И, между тем как любой почивает тихо и мирно,
Барский должен богатства стеречь неусыпно и зорко,
Передает, что хозяин все время кричит несусветно
И до зари с постели срывается, ибо, покуда
Не запоет петух, без конца мерещится пану,
Будто бы черти уносят его сундуки в дымоходы,
И потому на рассвете, когда поднимается солнце,
Пред сундуками стоит он дурак дураком на коленях
И за спасенье богатств «Отче наш» умильно читает.
Вот и теперь он, когда по его приказанью солтысы
Все в Караляучюс вмиг под дождем и снегом пустились,
Плакал изо дня в день и не мог уняться и ночью.
Так он ругался порой, что родителя дети пугались,
А иногда, в тишине, читал молитвы по книге,
К небу глаза возводя с глубоким, жалобным вздохом.
Так он терзался-страдал, проливая слезы бесстыдно.
Вдруг появился слуга и, согнувшись в глубоком поклоне,
Как подобает слуге пред своим господином сгибаться,
Дал ему в руки письмо от торговца Миколса. Только
Он распечатал его и стал читать со вниманьем,
Из Караляучюса Причкус уже назад воротился.
Немощный, тяжко дыша, он предстал перед амтсратом строгим,
Был человек он в летах, да к тому и здоровья плохого.
Три мешка увидав с богатствами новыми, амтсрат
Ожил: слезы лить и вздыхать тяжело перестал он.
Слуги считать принялись, но, когда до конца досчитали,
Вдруг на беду оказалось, что шиллинга недоставало.
Амтсрат, узнав об убытке таком, испугался смертельно,
Глаз он опять всю ночь не мог сомкнуть, а с зарёю
Причкуса с горя-досады избил он так беспощадно,
Что протомился три дня и помер этот бедняга.
Вахмистра также свирепо хозяин по уху съездил:
Пятеро суток в постели лежал он, тяжко хворая.
Бурасов тех, которым продажу зерна поручили,
Амтсрат высечь велел: с приездом, мол, запоздали,
Столько тяжелых забот своему господину доставив.
Вот она, вот какова награда за наши старанья,
Вот что, братцы, за службу усердную мы получаем!
Всякий, кто хочет, кругом помыкает бурасом бедным
И, как собаку, его, сожаленья не зная, пинает.
«Хватит! вымолвил Сельмас. - В унынье впадать не годится:
Ведь ничему не бывать без веленья господа бога.
Он именитых господ наделил богатством и властью,
Нам же, крестьянам, на долю оставил труды и страданья.
Каждый довольствуйся тем, что ему назначено богом.
Тот, кто породою знатной и долей высокой гордится,
Должен помнить вовек, кому он этим обязан.
Тот же, кто волею божьей родился бурасом нищим -
Вовсе тому не следует лаптей стыдиться мужицких,
Ежели он привык не за страх, а за совесть трудиться,
Ежели господа бога всегда почитает сердечно.
Ты, господин толстопузый, ты, злой самодур и упрямец,
Бурасов нищих стращаешь, гремишь ты в ярости громом.
Или не так же, как бурас, родился и ты, именитый,
Или иначе задок подтирают баричам в детстве?
Кто же тебе повелел попирать бедняков горемычных,
Душу свою потешая их жалобным плачем и стоном?
Бог высоко вознес испокон тебя над другими,
Острую саблю тебе, чтоб карать злодеев, вручил он,
Но обижать людей правдивых - он не позволил.
А потому берегись, свой острый меч поднимая,
Только из прихоти злой казнить бедняков безответных.
Вот я воочью вижу: глаза ты щуришь нарочно,
Боязно верить тебе, что от бога скрыться не сможешь!
Злые деянья твои он откроет и взвесит сурово.
Вот погоди: придется предстать пред судьёю предвечным, -
Вас, господ, как нас, крестьян, на суд созовет он,
Тем и другим воздаст по заслугам полною мерой.
Вы ж, бедняки-горемыки, в дырявых лаптях и сермягах,
Вы, батраки и крестьяне, и все, кто на барщину ходит,
Сколько бы ни было вас, угнетенных, стонущих тяжко,
Слёзы утрите свои и плач унять постарайтесь.
Мы ведь еще не забыли о том, что с нами случилось
В прошлом году, когда - сохрани и помилуй нас боже -
Помер наш амтсрат внезапно и плакать нас горько заставил.
Амтсрат любезный, зачем от нас ушел ты навеки?
Как мы несчётные дни, по тебе убиваясь, рыдали!
Господи боже, себя чуть-чуть не вогнали в чахотку.
Многие вовсе охрипли и шепотом заговорили.
Если же мы и теперь обливаться слезами не кончим,
Если же будем, соседи, и дальше плакать мы в голос,
Выплачем скоро глаза, согнется, высохнет тело.
Что ж это будет, судите, когда, обессилев, не сможем
Так же служить королю, как служили в прежние годы.
Землю отнимут у нас и ходить заставят с сумою.
Так что не надо трунить, если баре нос задирают,
Если они чертей поминают, бранясь ежедневно.
Бог виноватых найдет и накажет, как обещался,
Каждому полною мерой воздаст по делам и заслугам.
Хватит на этот раз стонать да охать! Пора бы
Нам распроститься и всем по домам пойти поскорее!
Разве не слышите вы, как, заждавшись, ругаются бабы.
Как без призора детишки, по улицам бегая, плачут?
Кони, коровы, волы стосковались по корму давненько,
А супоросые свиньи и с ними голодные овцы
Тычутся мордами в щели, зовут нас жалобным стоном.
Милые, малость пождите, мы к вам поспешаем обратно, -
Всё, что вам следует, нынче получите и наедитесь!
Мы-то ведь знаем, соседи, как нужно ходить за скотиной,
Сколько ей корму давать, сколько раз поить ее надо».
- «Так, - отозвался Лаурас, - хозяину жить и пристало,
Если смотреть за хозяйством и жить с умом он желает.
Немец высокомерный литовца считает болваном.
Также француз на него никогда не взглянет без смеха;
Пусть их смеются, а хлеб литовский всё-таки хвалят,
Да и по вкусу им, видно, пришлись и наши колбасы, -
Сколько бы их ни достали, едят и не наедятся.
Если ж порядком нажрутся литовского доброго сала,
Нашим разымчивым пивом по самое горло нальются,
То шельмовать начинают радушных наших литовцев.
Ты, тунеядец французский с багровым и толстым швейцарцем,
Все, кто наехал в Литву, чтобы нами распоряжаться, -
Кто вам, скажите, дозволил хулить работящих литовцев?
Лучше б вы к нам не совались, сидели б лучше вы дома,
Где научились жрать поганых жаб и лягушек».
- «Слишком французов хулишь, - отозвался Сельмас, подумав, -
Знаем, повадка своя, а также свой нрав у любого.
Мы, шюпинис и борщ подзаправив салом душистым,
Сварим, на стол подадим да всё нахвалиться не можем.
И никому не приелись колбасы литовские также.
Да, не приелись, - напротив, готовь, подавай их всё больше.
Если бездельник французский лягушек жирных нажрался,
Брюхо литовец набил гороховой кашей и салом,
Да христианский обычай и господа оба забыли, -
Хлеб вкушать и тот и другой едва ли достойны!
Рыжий, и пегий бык, и соловый, и пестрый, и чалый
Рев поднимают в хлеву, лишь сноп соломы увидят,
Если ж от чистого сердца им кинешь охапку-другую,
Корм захватят губами, усердно его уминая,
Звучно хрустеть начнут и глядеть на тебя неотступно.
Если б они изъясняться могли на литовском наречьи,
Верно, за этот подарок большое сказали б спасибо.
Летом-то дело иное: о корме заботы не много, -
Травы, цветы на лугу, и каждое, смотришь, созданье
Ест себе вволю весь день, а поев, резвится беспечно.
Если же осень и следом зима забушуют, завоют,
Тотчас в тревоге спешат существа земные укрыться
И, укрываясь, жуют, глотают что попадется;
Тут уж не может быть речи о большем иль меньшем, конечно, -
Все, что господь пошлёт, принимай как великое благо.
Мы-то ведь знаем, ведь нам небось не раз приходилось
Видеть, как твари живые, едва понагрянут морозы,
Прячутся кто куда и скудным питаются кормом.
Рыбы, лягушки, и раки, и всякие твари другие
Спят под корой ледяной, коротая суровую пору.
Многие твари в лес убегают, и целыми днями
Бедствуют там и блуждают, и корм насущный находят;
Всякую тварь понемногу питает бог милосердный,
Только он щедрой рукой кормить обещания не дал.
Так что в унынье впадать совсем, соседи, не нужно,
Видя, как день ото дня иссякают наши запасы.
Нам ведь не первый год терпеть нужду да лишенья,
Нам ведь не первый раз шюпинис варить без заправы,
Много в жизни своей проводили мы весен голодных,
Много мы перевидели и лет и осеней чёрных.
Вы, безбородые дурни, у старых людей расспросите,
Нужно вам крепко запомнить всё то, что они порасскажут!
Вы еще глупые дети и жизни не видели вовсе,
Как сосунки-поросята резвитесь, горя не зная, -
Но погодите - придут и для вас лихие денёчки,
Кукол своих и лошадок оставите вы помаленьку,
Как приниматься за дело и вас нужда приневолит.
Мы, чьи лица в морщинах и спины сгорблены горем,
Некогда так же, как вы, по улицам дружно скакали.
Лето свое молодое мы также справляли беспечно.
Думали ль мы, что поры осенней, горькой дождёмся,
Души измучим вконец и вскорости так захиреем.
Диву даёшься, как быстро скудеет век человечий!
Знаем, любой человек - то барин будь или бурас, -
В муках рождаясь на свет, возникает, как слабая почка.
Грудью кормясь материнской, час от часу он безмятежно
После, смотришь, растет и всё больше выходит из почки,
Но до цветка далеко: показаться не может он сразу.
Дней-то проходит изрядно, покуда из махонькой почки
Вся проклюнется вдруг красота, что прежде таилась.
Но не окрепло еще существо молодое - как, смотришь,
Горести тут же его без конца донимать начинают.
Разве не помним, друзья, что бывало с нами в ту пору,
Как мы играли детьми, еще неразумными вовсе.
Ах, наши дни золотые, куда вы навек улетели!
Осень и следом зима безжалостно вас истрепали,
Нам же, дедам, венки из седин возложили на темя,
Вот уж, соседи, опять мы старый год провожаем.
Всяческих горестей уйма отходит с ним также в забвенье.
Толком знать мы не можем того, что несёт и готовит
Вновь наступающий год и всё выше встающее солнце,
Хоть сохранит нас господь и жизни дни нам продолжит.
Гляньте: холодные пашни, чью мягкую спину мы летом
Резали плугом, сохою, зерном на ходу засевали,
Под ледяною корой и сугробами нынче укрылись.
Спят - и никак не откроют, что бог всемогущий замыслил,
Что рассчитал он, когда на свет мы еще не родились.
Нам его станет известно, как в гости, с помощью божьей,
Милое лето придёт и тепло мы снова почуем.
Этой заветной поры подождём терпеливо, соседи,
Будем ждать неустанно того, что на нивах родится.
Господи, боже ты наш! Не ты ли, небесный зиждитель,
В час изначальный, когда и думать еще не могли мы,
Наше рожденье замыслил и путь начертал нам грядущий.
Всё, что нам будет потребно, расчислил, как свет увидали.
Силу телесную дал нам и разум пытливый и острый,
Согласовал и желанья, и чувства, и помыслы наши,
Радости наши земные и горести мудро расчислил,
Каждому определив долготу его жизни на свете.
Вот уж старый год наконец уходит навеки,
С помощью крепкой твоей уходят также невзгоды,
Что не однажды стонать нас, нищих крестьян, заставляли.
Как же ты преходяще, веселое летнее время,
Вы, на лугах и полянах цветы, что блестите красою,
Также, пташки, и вы со своею песнею сладкой,
Вы, что в наших краях свой летний встретили праздник!
Вам ведь о хлебе и крове заботиться не было нужды.
Вы, прилетев весной, трудов тяжелых не знали,
Сеять, пахать, боронить, убирать - не нужно вам было.
Бремя забот неустанных влачить всемогущий вам не дал,
Вас обещал он кормить без трудов и забот повседневных.
Мы от рожденья сироты, мы все бедняки-горемыки, -
Видно, не можем, как вы, беспечно тешиться волей,
Ибо с младенческих лет приходят нас мучить невзгоды.
После всю жизнь от них избавления мы не находим.
Вот и в прошлом году: проводили мы светлую пасху,
Ради насущного хлеба немедля взялись за работу,
Без передышки всё лето старались и пота довольно
С разгоряченных лиц и лбов мы стёрли, покуда
Хлеб насущный собрали и спрятали после в сараи.
Ну, а теперь, проводив веселыми свадьбами осень,
Повеселившись пристойно, опять же подумаем вместе,
Как сохранить припасы. Итак, соседи честные,
Варим мы что-нибудь, или печём, иль что-нибудь жарим,
Думать о завтрашнем дне и о будущих днях не забудем.
Долго еще дожидаться, покуда лето настанет
И заклокочет в горшках похлебка из свежих припасов.
Ну, а теперь разойдёмся и дома, с помощью божьей.
Загодя плуги да сохи осмотрим и тут же наладим.
Полднями солнышко снова растапливать стало сугробы.
Жавронок снова запел, летая весело в небе.
Близятся мало-помалу весна и милое лето.
Всяких припасов оно наготовить нам обещает.
Но без поддержки твоей, господь, отец наш небесный,
Нам не достанутся в руки щедроты милого лета.
Что бесконечные сборы, и хлопоты все, и старанья,
Что из того, что, купив сошники и лукошки, с весною
В поле потянемся дружно и хлеб посеем как надо, -
Прахом, господь, пойдёт любое, что ни предпримем,
Ежели благословляющей нас не поддержишь рукою!
Нас ты заботой своей в минувшем году не оставил, -
Нас ты и впредь сохранишь и поддержишь силой своею.
Предугадать мы не можем, что лето с собою несет нам,
Ты же заранее знаешь, какие назначишь заботы.
Нам, существам неразумным, трудненько постичь твой порядок,
Бездною кажется нам глубина твоих помыслов чудных,
Если в них разумом слабым пытаемся вникнуть порою!
Не забывай же и впредь о нуждах наших, всевышний,
Милостив будь и тогда, как снова лето наступит
И на полосках томиться мы станем с зари до заката».
Сивер встопорщенный мчится и всё живое стращает.
Глянь - озера, пруды и реку поверх затянуло,
Будто в них стекла повсюду стекольщик вставил искусно.
Глянь - обиталища рыб, где лягушки лето справляли,
Словно броней от зимы сварливой отгородились.
Всякая тварь ко сну там отходит нынче в потемках.
Сивер сердитый в полях расходился так, что повсюду
Закаменели болотца, морщины пошли по трясинам,
Хлюпать осенняя грязь под ногами вдруг перестала.
Если теперь понесется телега вскачь по дороге -
Словно тугой барабан по морозу гремит и грохочет,
И, далеко раскатясь, тот гул в голове отдается.
Время вновь подошло - встречать и чествовать зиму!
Ах, ведь и вправду пора: до святок - самая малость,
Минул рождественский пост, - ему конец послезавтра.
Осень слоном по ненастью шаталась с зари до заката,
Брызгала слякотью липкой и нам досаждала жестоко;
Каждый, когда обувал сапоги или клумпы сырые,
Осень люто бранил за эту мокрядь и слякоть.
Но и богатые баре, что скачут в каретах блестящих,
Изо дня в день по гостям разъезжают, наряжены пышно,
Тоже ругмя-ругали гнилую, мерзкую осень.
Вот почему неотступно на север люди глядели
И с нетерпеньем великим сухой зимы дожидались.
Вдруг пред закатом в полнеба заря занялась-запылала,
И замахали крылами смелей студёные ветры.
Непогодь к югу погнали, где аисты спят на зимовках.
Из облаков густых карга зима показалась,
Высунув голову, стала со слякотью скучной браниться,
За ночь из всех закоулков морозом вывела мокрядь,
Выгребла дрянь со дворов, чистоту навела на дорогах.
По зыбунам вековым протянула надежные гати
И на санях по снегам лететь и скользить научила.
Там, где, в преддверья весны, мы бродили с радостью в сердце,
Благоуханные травы и цветики пестрые рвали,
Там, где веселого лета погожие дни проводили, -
Сколько зима ухитрилась насыпать белых сугробов,
Зимних сколько цветов взрастила-понасажала.
Смотришь - и диву даешься: саженные бороды свесив,
Перед тобою стоят в кудрях, осыпанных снегом,
Высокорослые сосны, как баре в напудренных буклях.
Голый кустарник дрожит и гнётся меж них по-крестьянски,
Спину ломает в поклонах, челом к земле припадает,
Жалобно стонет, когда налетают ветры внезапно.
Но бурелом, и пни, и коряги также страшатся,
Только мехи раздувать начинает сивер жестокий,
Будто сквозь редкое сито колючий снег просевая.
Пусто в лесной глубине: ни зверей не видать, ни пернатых!
В пору, как полчища вьюг воюют, яростно воя,
Кто до весенних дней угнездился в теплой берлоге,
Кто на зальдевшем суку иль в дупле примостился и дремлет.
Милые пташки, и вам, как нам, приходится туго.
Так же и нас донимают морозы трескучие нынче.
Вас в ледяные леса загоняют метели и стужи,
Нас же, пробрав до костей, понуждают в жилье забираться,
К печке любезной присесть и греться целыми днями.
Ваши холодные гнезда, в которых пищите спросонья,
Ни от снегов, ни от стуж защитить не могут нисколько.
Мы, если лапою за нос зацепит нас походя сивер,
Прячемся тотчас в жилье, в уголок забиваемся теплый,
И над сердитой зимой потешаемся дружно и смело,
И поглощаем похлебку горячую, сидя у печки.
Ах, бедняки-горемыки, всегда вы голы и босы.
Стужа иль зной на дворе, ненастье ль стоит или вёдро,
Но постоянно на вас одна и та же одежда.
Мы, если жаркое солнце нам спины порой припекает,
Легкий кафтан надеваем, спешим безрукавку накинуть,
Если ж, бывает, мороз начинает щипать не на шутку,
Тут мы, конечно, кожух со стены поскорее снимаем
Или немедля в постель влезаем, чтоб лучше согреться.
Так размышлял я. Внезапно сбежалась волчья ватага,
Хором на все лады во тьме кромешной завыла.
Ах вы, разбойники-воры! Свежинки небось захотелось
Иль животы у вас с голодухи снова подводит?
Сивер жестокий! Гони их, по грязным спинам стегая,
Жги их, мороз, без пощады - пусть сгинут эти бродяги!
Сивер, к тебе прибегаем: ведь каждое милое лето
Рыщут они по полям и режут нашу скотину.
Вдруг на опушке лесной заприметив весёлое стадо,
Не разбирают они, жирна ль, худа ли скотина,
Также им всё равно - что боров, что поросенок,
Даже и хряков матёрых они задирают порою.
Но и свинины нажравшись, не знают они угомону:
Всё не насытятся, им не хватает говядины сочной.
Стельных и яловых резать коров тогда начинают,
Изо дня в день жадней и бесстрашней становятся воры
И наконец начинают травить и быков-шестилеток.
Сколько сгубили они пестравок, буренок, лысанок,
Сколько, сколько они задрали, в поле застигнув,
Статных бурых быков, степенных я важных соловых.
Часто она бугаев не боятся, рогатых и черных,
И в середину стада кидаются, злобно ощерясь.
Крик пастухов и пастушек нисколько воров не смущает,
Только на шаг-другой, не спеша, подаются к опушке
Вместе с добычей - и жрут, и жрут на глазах у кричащих.
Нас пожалей, зима, помоги в беде и несчастье!
Этак мы скоро совсем лишиться можем скотины,
Ну а потом, глядишь, и до наших семей доберутся, -
Наших ребят и жён растерзают волчьи ватаги.
Вы, лесники, и вы, егеря, бывалые люди,
Что не стреляете, если стрелять вам велено властью?
Или, скажите, король приказом каким запрещает
Людям травить волков и повсюду искоренять их?
Попусту, что ли, на то отпускают вам порох и пули?
А для чего в лесу, скажите, объездчиков держат,
Даже землей наделяют их всех, чтобы жили в достатке?
В лес по студёной поре воровать дрова приезжая,
С окороками корзинку в подарок крестьяне привозят,
Водки побольше подносят объездчику, чтобы молчал он.
Это обычный подвох, ведь объездчик, пьяный мертвецки,
После того забывает про лес, присягу и службу,
А между тем за стеной в лесу орудуют воры,
Рубят толстенные сосны, дубы, заповедные липы
Или стреляют лосей, домой отвозят добычу;
Тушу немедля свежуя, еще ухмыляются, шельмы!
«Кажется, - вымолвил Причкус, крестьян табаком угощая
И, по привычке своей, исподлобья на Кубаса глядя, -
Кажется, милости вашей теперь уж вдомек, что обманом
И воровством промышлять не пристало людям достойным.
Я ведь давненько солтыс и тесть мой - Блеберис мудрый;
Ваших проделок немало на барщине я нагляделся, -
Вот и словечко скажу я, приятели, вам в назиданье.
Много средь вас таких, что на барщину еле плетутся.
А за работу принявшись, едва шевелятся; другие
Словно к земле прирастают и, вовсе забыв о работе,
Всякую там небылицу соседу на ухо шепчут,
Трубку свою табачком то и дело один набивает
Или огонь из кремня высекает, сладко зевая;
Этот повозится малость, потом подастся в сторонку
И тихомолком, подлец, отыскав корзину соседа,
Словно голодный пес, чужие куски поедает,
Бурасов честное имя кругом срамя и пороча.
Если кого-нибудь часом еврейский плут или польский,
Как простака, обмануть, обобрать бесстыдно задумал
Или какой-нибудь немец, наврав, по немецкой манере,
Бар и крестьян равно надувает немилосердно,
Не удивляюсь ничуть - у него такова уж природа!
Что же подумать, когда встречаешь такого поганца,
Кто говорит по-литовски и жить начинает обманом,
Не замечая того, что подводит бураса бурас.
Не из-за наших ли плутней сегодня сетует столько,
Столько вздыхает везде лесников и объездчиков честных?
Слушать воистину страшно, когда на пирушку сойдутся
Бурасы наши порой и друг другу в плутнях несчетных
Вдруг признаваться начнут открыто и чистосердечно
И над своими грехами смеяться в шутку-забаву.
Кто лесника обдурил и этим хвалится, шельма,
Кто там объездчика за нос водил и хохочет, поганец,
Кто, ошалев от водки, как дурень, буркалы пучит,
Кто свалился под стол и уже подняться не в силах,
Но вороватых крестьян языком коснеющим славит.
Господи, боже ты наш, до какого мы дожили сраму,
Что за кромешная тьма одолела грешную землю!
Так в преисподнюю, смотришь, и лезут баре и слуги.
Бога поносит одни и над ним глумится, как может,
Вторит ему в угожденье другой, прощелыга и лодырь.
Третий, одной простоквашей и сорной крупою питаясь,
Тяжко кряхтя и стеная под грузом трудов непосильных,
Тоже над господом богом смеется, этакий вшивец!
Всюду он плачется, ноет, что баре людей угнетают,
Мол, из крестьян выжимать последнюю кровь не стыдятся.
Ну, а в харчевню-то, смотришь, во все лопатки несётся
И в понедельник еще потирает битую морду».
- «Ах, - отозвался Энские, у Кризаса кума сидевший, -
Право, не в меру сегодня ты к нам придираешься, Причкус.
Что ты с пристрастьем таким литовца-беднягу поносишь,
Всё говоришь об одном - об его плутовствах да и только.
Или не видел, что все одинаково грешны крестьяне,
Русский, и швед, и еврей поступают разве иначе?
Немец, который «вуй-вуй» спешит французу поддакнуть,
Если придется, людей околпачит не хуже француза.
Ты ведь и сам-то, брат, когда еще не был солтысом,
Часто с соседями вместе на этакий лад веселился:
Зимней порою в лес выезжая с нами в потемках,
Ясени или дубы не хуже нас воровал ты!
Кстати, умел ты хитро воровать, и поэтому сторож,
Как ни глядел, а, бывало, всегда в дураках оставался.
Нас же, нас, бедняков неразумных (стыдно и молвить!),
Сколько он раз накрывал и наказывал так беспощадно.
Что с воровством и обманом покончить, как видно, придётся».
- «Кажется, - вымолвил Сельмас, - обман никому не дозволен,
Ну, а литовцам подавно нечестными быть не пристало,
Знаете сами, как славит Литву любой чужестранец,
Сколько, чтоб нас поглядеть, наезжает в наш край иноземцев,
С мира всего небось любопытных понабежало.
К нам ведь не только одни пробираются немцы охотно,
Но и французов немало нас любит и жалует нынче.
Стали они за столом по-литовски болтать понемногу.
Смотришь, иные из них на литовский манер приоделись,
Лишь домотканые платья надеть никак не решатся.
Так что пора, соседи, дела дурные оставить, -
О плутовстве позабудьте, старайтесь быть попристойней.
Станут нас дружно тогда хвалить и чужие крестьяне.
Знаем, господь, преподав законы строгие людям,
Нам запретил обман, воровство запретил он любое,
Нам не позволил издревле господь в плутовстве изощряться.
Если Дочис или Йонас утащат нож у соседа
Иль на чужое добришко позариться вздумает Еке
И у Катрины тайком унесет хотя бы метелку,
Это уж грех - и великий, и так поступать не годится.
Ну, а какой же грех, если бурас присвоит колоду,
Или, сосну повалив, на дрова рубить ее станет,
Или могучий дуб повалит - расколет да в печку
Кинет - хлебы испечь или что сушить из одежды!
Разве каким-нибудь пнем в нужде не мог обойтись он?
Не обогрела бы разве валежника связка-другая?»
- «Хватит, соседушки, хватит, - ответил Причкус сердито, -
Складно сказали мы то, что уместно на сходке крестьянской,
Только про зиму придётся ещё покалякать маленько.
Знаете сами: огонь, что мы из кремня высекаем,
Пользу большую приносит, но также вред - и немалый.
Если, огонь разведя, шюпинис ты варишь, иль клёцки,
Или что вкусное жаришь, у печки пылающей сидя,
Жесткие мяса куски понемногу становятся мягки.
Как же приятно бывает тебе, утомленному за день,
Если вдобавок промок до костей от дождя или снега,
К печке горячей прижавшись, впадать понемногу в дремоту.
Плохо ли то, скажи, что огонь дал людям всевышний?
Нужно, конечно, дровец, если хочешь согреться получше,
Или сварить, иль поджарить чего на обед или завтрак.
Только подумай, приятель, о том, что было бы с нами,
Если б огня и дровишек совсем не водилось на свете, -
Месивом, верно, свиным нам пришлось бы тогда пробавляться.
Что бы мы делали, если б продрогли на лютом морозе
И не могли б приютиться у печки, натопленной жарко.
По полю бегали б мы, бедовали б, как дикие звери.
Не забывай же о том, человек, и, похлебку ли варишь
Или у печки горячей ты нежишься в полудремоте,
Благодари того, кто дал огонь и тепло нам.
Но не сердитесь, друзья, если я, по должности шульца,
Лишнее слово промолвлю, - послужит оно вам на пользу.
Этот дивный огонь, что жилье озаряет ночами
И заставляет вариться простые кушанья наши,
Иль хорошо нагревает очаг в холодную пору,
Слышите - этот огонь, коль за ним не присматривать в оба,
Много, ох, много бед натворить он может народу.
Страшная сила его, во тьме ночной возникая,
Испепеляет не только избенки крестьянские всюду,
Но и господских палат не щадит, - их мигом сжирает.
Разве не слышали вы о беде великой, соседи.
Что Караляучюс-город уже постигла двукратно?
Разве людей не встречали, огнем вконец разорённых,
Что по дворам побираться пошли с котомкою нищей?
В чём-нибудь каждый повинен: тотпечь затопил бестолково,
Сало поджаривал этот и сжег дотла свой домишко.
Ну, а меж нами-то сколько упрямых глупцов, что привыкли
По сеновалам да ригам шататься с раскуренной трубкой.
Спалит, помилуй господь, деревню этакий дурень,
Так что один лишь кол останется там от забора.
После же недруг такой, народу бед понаделав,
Мечется, словно разбойник, и места себе не находит, -
Прячется тут и там, и попробуй-ка с ним ты судиться,
Всё потеряв добро, по дворам чужим побираясь!
Разве не видели сами, как Кризаса, доброго друга,
В прошлом году спалил супостат Дочис ненароком?
Кризас, любезный сосед, человек, уважаемый всюду,
Гостя любого всегда был готов обласкать по-литовски.
Но особливо своих дорогих домочадцев любил он,
Их, как себя, жалел и об них радеть не ленился,
Не отягчал их тяжелым трудом, но, добросердечный,
Каждого после работы спешил попотчевать тут же
Вкусной и сытной похлёбкой, варёным и жареным мясом.
Диву даешься, когда начинает приказчик господский,
Лаурас, выхваливать нам его кладовые и кухню.
Этот чудесный дом спалил Дочис, как сказал я:
Трубку свою раскурил, да и спать потом завалился.
Кочет еще не кричал, а уже от соседского дома
Пепел остывший остался да пара жердей обгорелых.
Ах, дорогие соседи, мои любезные братцы!
Господа ради прошу вас - о Кризасе помните крепко.
Также, прошу, не дивитесь, его в лохмотьях увидя,
Если поклонится вам и руку, как нищий, протянет…
Станет он «Отче наш» читать - его не браните!
То, что с этим беднягой стряслось в полночную пору,
Может и с каждым из нас приключиться утром иль в полдень,
Если, как недруги-немцы, забудем о господе боге,
Если обманывать, красть мы тотчас не перестанем!
Ну, так учись, приятель, учись заботиться впору
О каждодневных нуждах в суровое зимнее время.
Ты обойдешься ль избушкой нетопленной в лютую стужу,
Станешь ли ты глотать холодный борщ или тюрю?
Нет! Так придется тебе высекать огонь постоянно
И на очаг разожженный горшочек с варевом ставить.
Но берегись, когда начинаешь растапливать печку,
Что-нибудь жаришь-печешь или вкусную варишь похлебку,
Чтоб самому себе и другим беды не наделать.
Ты ведь слыхал небось, как Дочис, обалдуй и упрямец.
Кризаса в горе большое и в стыд великий повергнул.
Не забывай потому в дымовые заглядывать трубы,
Исподволь сажу на них выскребай, как хозяин исправный.
Щепки на печь не клади и соседям класть не советуй.
Также сушить на печи не смей сырые поленья.
Знаете сами, какой приказ получен суровый.
Тотчас, без промедленья, начальство вешать готово
Всякого, кто из упрямства посмеет ослушаться старост;
Также неладное дело, хватясь чего-нибудь ночью,
Шарить с лучиной в руках по углам, где всякая рухлядь.
Либо ребят озорных оставлять без присмотра в избушке».
Тою порой, как селян поучал начальственно Причкус,
Выстрел вдруг такой прогремел поблизости где-то,
Что ходуном заходила земля от края до края
И на куски разлетелись в избушке новые стекла.
Выстрел услышав громовый иные селяне с испугу
Остолбенели и вмиг со скамеек попадали на пол.
Ну, а другие, что разум с грехом пополам сохранили,
Словно как пули, на двор понеслись из избы Плаучюнса,
И недалече Дуракса нашли, истекавшего кровью.
Что ж оказалось? Дочис захотел вороньего мяса,
Дал он бедняге ружье заряженное, чтобы немедля
Тот застрелил и принес ворон с десяток на ужин.
Парень-то был глуповат и в угоду воле хозяйской
Тотчас, как должно, с ружьем исполнять приказанье помчался.
Тут же, на крыше соседней увидев большую ворону,
Так неумело стрельнул, что пыжом сеновал подпалил он.
Вот - занялась изба; за ней - другая и третья,
А ружьецо разорвало - и парень-то сам поплатился.
Скоро об этой беде проведал также пан амтсрат,
Незамедлительно прибыл он с кучей своих челядинцев,
Стал он расследовать строго, что было причиной пожара.
Каждый, вздыхая и плача, спешил рассказать про Дочиса,
Каждый в рассказе своем поминал ворон неизменно.
Амтсрат, от всякого слыша одно и то же, в большую
Ярость пришел и Дочиса бранить принялся несусветно.
Мало того - преступленье сурово наказывать нужно, -
Тут же, по слову его, в кандалы заковали Дочиса
И на санях отвезли в тюрьму, чтоб суда дожидался.
Ровно на пятый день собрались почтенные судья
И отовсюду созвали свидетелей: шумной толпою
Тотчас на суд поспешили Энскис, и Милкус, и Лаурас,
И Лаурене, и Еке с подружкой своей Пакулене.
Встав до рассвета, соседи явились - с жалобой каждый,
Ну, а когда, наконец, расселись люди пристойно,
Страже судьи велели ввести Дочиса немедля.
Тяжко вздыхая, Дочис пред судилищем вдруг появился,
Строго его обо всем господа расспрашивать стали,
Точный допрос учиняя, как судьям правдивым пристало,
Также свидетелей всех допросили они по порядку
И говоривших правдиво почтили своей похвалою.
Но подбоченился дерзко Дочис (подумайте только!),
Он никому из судей на слова не дал промолвить.
«Судари судьи, - сказал он, - кому какая забота,
Если поджарить порой воронятины я пожелаю
И потому застрелю на обед ворону-другую.
Иль королевский закон истреблять ворон запрещает?
Знаю, меж наших литовцев балованных бурасов много
И батраков, кому не по вкусу яства такие.
Я же ничем не гнушаюсь, мне только бы мяса наесться.
Ну, так зачем вы хотите присвоить мой нищий кусочек, -
Иль не довольно того, что таскаю вам ножки вороньи
И, воробьев наловив двенадцать, как бурас примерный,
Головы им свернув, сдаю властям ежегодно?
Так что прошу я, хоть раз окажите высокую милость
И не корите меня, если душу потешить хочу я
И застрелить временами осмелюсь ворону-другую.
Вы, господа, по правде, крестьян вконец уходили,
Скоро останется нам за крыс да за сов приниматься».
Слушая речь таковую, стоял, опираясь на палку,
И несказанно дивился с другими солтысами Причкус.
«Эх, - там кто-то сказал, - времена какие настали,
Самоуправствует каждый, забыв о господском приказе,
Ближним, а пуще себе бесконечные беды приносит.
Мало ль пан амтсрат, скажите, нас всех поучал по-отцовски,
Ведь запрещал он из ружей стрелять во дворах деревенских.
Сколько священники в церкви, припомните, нас укоряли
В том, что наших господ не желаем слушаться ныне.
Вот и глядите-ка, братцы, какая беда приключилась!
Ах, Дочис, Дочис! Не хотел ты послушаться дельных,
Добрососедских советов, когда мы тебя вразумляли!
Что уж греха таить: господа, радетели наши,
Требуя денег всё больше, крестьян вконец обдирают,
Ежели пару ворон застрелил Дочис с голодухи
И на обед в горшке их мясо поганое варит.
Слушать об этом позоре не хочется, но посудите -
Как человеку прожить, когда с голодухи он пухнет?
Мы-то ведь знаем: нужда довести и до худшего может!
Только никак нельзя спустить и упрямцу, который
Без толку бьет из ружья и чужие дома поджигает».
Так сокрушались они. Вдруг вахмистра голос раздался.
Он в Караляучюс велел собираться солтысам немедля.
Вышел брюхастый Курпюнас, что был приказчиком главным,
Шапку стащил с головы и, начальству кланяясь низко,
В точности выполнить всё обещал, как слуге подобает,
После того созвал он двенадцать шульцев немедля,
Дал приказание людям - чрез пятеро суток явиться.
Волость Вижлаукская вся всполошилась от края до края
С самой зари потянулись крестьян несметные толпы -
Как в муравейнике всё встревожилось, зашевелилось.
Подданным разве пристало зевать да топтаться на месте?
Нужно стараться, когда прижимает их барская милость.
«Эх, - промолвил Лаурас, достойную речь начиная, -
Эх, времена-то какие для нас, соседи, настали!
С бурасов бедных три шкуры сдирая, каждый бездельник
Милость свою выхвалять перед ними ничуть не стыдится.
Каспарс (ведь знаете все вы, как нравом он крут, этот Каспарс),
Этот элодей окаянный, набравшийся спеси господской,
Словно колючий терновник, топорщится, бураса встретив.
Ну, а подручный его, Даугкалба, этот задира,
Ходит, горланит, как хочет, и нос высоко задирает.
Ах, как немного людей таких, кто, миром владея,
Подданных бедных жалеет и помнит о господе боге».
- «Ты, - отвечал ему Причкус, - ты Каспарса лучше не трогай!
Лучше помалкивай, если Даугкалба по уху смажет!
Нужная вещь - мехи, чтоб дуть на пламя печное,
Но бесполезны они, если, дуя ветру навстречу,
Думаешь остановить облака в их беге поспешном.
Может ли с мощным орлом воробей тщедушный поспорить?
Где уж ничтожной лягушке тягаться со львом-великаном?
Так что, любезный друг, не шути с господином спесивым
И, чтоб беды не накликать, держи язык за зубами».
Во всеуслышанье Причкус слова таковые промолвил,
Тотчас овчинную шубу надел он - шерстью наружу,
Амтсрата взял умолот, ни единого мига не медля.
И в Караляучюс поехал с другими солтысами вместе.
Амтсрат и вахмистру отдал приказ, чтоб с Причкусом ехал,
Чтобы за выручкой крепко присматривал с ним по дороге.
Нужно сказать, что был этот амтсрат скуп непомерно.
Если он изредка грош подавал бедняку, смилосердясь,
Спать по три ночи не мог потом и, встав на рассвете,
Слезы до вечера лил с досады так изобильно,
Что домочадцев брала порою оторопь даже.
Амтсрата верные слуги - Шлапьюргис и Сусукате-
Молвят, что их господин для того бедняков избегает,
Чтоб не досадовать ночью и слез не лить, ибо после
Каждый шиллинг пред ним предстает в сновиденьях тяжелых
И укоряет его до зари, как грех совершенный.
Также подручный, кто стелет постель всегда господину
И, между тем как любой почивает тихо и мирно,
Барский должен богатства стеречь неусыпно и зорко,
Передает, что хозяин все время кричит несусветно
И до зари с постели срывается, ибо, покуда
Не запоет петух, без конца мерещится пану,
Будто бы черти уносят его сундуки в дымоходы,
И потому на рассвете, когда поднимается солнце,
Пред сундуками стоит он дурак дураком на коленях
И за спасенье богатств «Отче наш» умильно читает.
Вот и теперь он, когда по его приказанью солтысы
Все в Караляучюс вмиг под дождем и снегом пустились,
Плакал изо дня в день и не мог уняться и ночью.
Так он ругался порой, что родителя дети пугались,
А иногда, в тишине, читал молитвы по книге,
К небу глаза возводя с глубоким, жалобным вздохом.
Так он терзался-страдал, проливая слезы бесстыдно.
Вдруг появился слуга и, согнувшись в глубоком поклоне,
Как подобает слуге пред своим господином сгибаться,
Дал ему в руки письмо от торговца Миколса. Только
Он распечатал его и стал читать со вниманьем,
Из Караляучюса Причкус уже назад воротился.
Немощный, тяжко дыша, он предстал перед амтсратом строгим,
Был человек он в летах, да к тому и здоровья плохого.
Три мешка увидав с богатствами новыми, амтсрат
Ожил: слезы лить и вздыхать тяжело перестал он.
Слуги считать принялись, но, когда до конца досчитали,
Вдруг на беду оказалось, что шиллинга недоставало.
Амтсрат, узнав об убытке таком, испугался смертельно,
Глаз он опять всю ночь не мог сомкнуть, а с зарёю
Причкуса с горя-досады избил он так беспощадно,
Что протомился три дня и помер этот бедняга.
Вахмистра также свирепо хозяин по уху съездил:
Пятеро суток в постели лежал он, тяжко хворая.
Бурасов тех, которым продажу зерна поручили,
Амтсрат высечь велел: с приездом, мол, запоздали,
Столько тяжелых забот своему господину доставив.
Вот она, вот какова награда за наши старанья,
Вот что, братцы, за службу усердную мы получаем!
Всякий, кто хочет, кругом помыкает бурасом бедным
И, как собаку, его, сожаленья не зная, пинает.
«Хватит! вымолвил Сельмас. - В унынье впадать не годится:
Ведь ничему не бывать без веленья господа бога.
Он именитых господ наделил богатством и властью,
Нам же, крестьянам, на долю оставил труды и страданья.
Каждый довольствуйся тем, что ему назначено богом.
Тот, кто породою знатной и долей высокой гордится,
Должен помнить вовек, кому он этим обязан.
Тот же, кто волею божьей родился бурасом нищим -
Вовсе тому не следует лаптей стыдиться мужицких,
Ежели он привык не за страх, а за совесть трудиться,
Ежели господа бога всегда почитает сердечно.
Ты, господин толстопузый, ты, злой самодур и упрямец,
Бурасов нищих стращаешь, гремишь ты в ярости громом.
Или не так же, как бурас, родился и ты, именитый,
Или иначе задок подтирают баричам в детстве?
Кто же тебе повелел попирать бедняков горемычных,
Душу свою потешая их жалобным плачем и стоном?
Бог высоко вознес испокон тебя над другими,
Острую саблю тебе, чтоб карать злодеев, вручил он,
Но обижать людей правдивых - он не позволил.
А потому берегись, свой острый меч поднимая,
Только из прихоти злой казнить бедняков безответных.
Вот я воочью вижу: глаза ты щуришь нарочно,
Боязно верить тебе, что от бога скрыться не сможешь!
Злые деянья твои он откроет и взвесит сурово.
Вот погоди: придется предстать пред судьёю предвечным, -
Вас, господ, как нас, крестьян, на суд созовет он,
Тем и другим воздаст по заслугам полною мерой.
Вы ж, бедняки-горемыки, в дырявых лаптях и сермягах,
Вы, батраки и крестьяне, и все, кто на барщину ходит,
Сколько бы ни было вас, угнетенных, стонущих тяжко,
Слёзы утрите свои и плач унять постарайтесь.
Мы ведь еще не забыли о том, что с нами случилось
В прошлом году, когда - сохрани и помилуй нас боже -
Помер наш амтсрат внезапно и плакать нас горько заставил.
Амтсрат любезный, зачем от нас ушел ты навеки?
Как мы несчётные дни, по тебе убиваясь, рыдали!
Господи боже, себя чуть-чуть не вогнали в чахотку.
Многие вовсе охрипли и шепотом заговорили.
Если же мы и теперь обливаться слезами не кончим,
Если же будем, соседи, и дальше плакать мы в голос,
Выплачем скоро глаза, согнется, высохнет тело.
Что ж это будет, судите, когда, обессилев, не сможем
Так же служить королю, как служили в прежние годы.
Землю отнимут у нас и ходить заставят с сумою.
Так что не надо трунить, если баре нос задирают,
Если они чертей поминают, бранясь ежедневно.
Бог виноватых найдет и накажет, как обещался,
Каждому полною мерой воздаст по делам и заслугам.
Хватит на этот раз стонать да охать! Пора бы
Нам распроститься и всем по домам пойти поскорее!
Разве не слышите вы, как, заждавшись, ругаются бабы.
Как без призора детишки, по улицам бегая, плачут?
Кони, коровы, волы стосковались по корму давненько,
А супоросые свиньи и с ними голодные овцы
Тычутся мордами в щели, зовут нас жалобным стоном.
Милые, малость пождите, мы к вам поспешаем обратно, -
Всё, что вам следует, нынче получите и наедитесь!
Мы-то ведь знаем, соседи, как нужно ходить за скотиной,
Сколько ей корму давать, сколько раз поить ее надо».
- «Так, - отозвался Лаурас, - хозяину жить и пристало,
Если смотреть за хозяйством и жить с умом он желает.
Немец высокомерный литовца считает болваном.
Также француз на него никогда не взглянет без смеха;
Пусть их смеются, а хлеб литовский всё-таки хвалят,
Да и по вкусу им, видно, пришлись и наши колбасы, -
Сколько бы их ни достали, едят и не наедятся.
Если ж порядком нажрутся литовского доброго сала,
Нашим разымчивым пивом по самое горло нальются,
То шельмовать начинают радушных наших литовцев.
Ты, тунеядец французский с багровым и толстым швейцарцем,
Все, кто наехал в Литву, чтобы нами распоряжаться, -
Кто вам, скажите, дозволил хулить работящих литовцев?
Лучше б вы к нам не совались, сидели б лучше вы дома,
Где научились жрать поганых жаб и лягушек».
- «Слишком французов хулишь, - отозвался Сельмас, подумав, -
Знаем, повадка своя, а также свой нрав у любого.
Мы, шюпинис и борщ подзаправив салом душистым,
Сварим, на стол подадим да всё нахвалиться не можем.
И никому не приелись колбасы литовские также.
Да, не приелись, - напротив, готовь, подавай их всё больше.
Если бездельник французский лягушек жирных нажрался,
Брюхо литовец набил гороховой кашей и салом,
Да христианский обычай и господа оба забыли, -
Хлеб вкушать и тот и другой едва ли достойны!
Рыжий, и пегий бык, и соловый, и пестрый, и чалый
Рев поднимают в хлеву, лишь сноп соломы увидят,
Если ж от чистого сердца им кинешь охапку-другую,
Корм захватят губами, усердно его уминая,
Звучно хрустеть начнут и глядеть на тебя неотступно.
Если б они изъясняться могли на литовском наречьи,
Верно, за этот подарок большое сказали б спасибо.
Летом-то дело иное: о корме заботы не много, -
Травы, цветы на лугу, и каждое, смотришь, созданье
Ест себе вволю весь день, а поев, резвится беспечно.
Если же осень и следом зима забушуют, завоют,
Тотчас в тревоге спешат существа земные укрыться
И, укрываясь, жуют, глотают что попадется;
Тут уж не может быть речи о большем иль меньшем, конечно, -
Все, что господь пошлёт, принимай как великое благо.
Мы-то ведь знаем, ведь нам небось не раз приходилось
Видеть, как твари живые, едва понагрянут морозы,
Прячутся кто куда и скудным питаются кормом.
Рыбы, лягушки, и раки, и всякие твари другие
Спят под корой ледяной, коротая суровую пору.
Многие твари в лес убегают, и целыми днями
Бедствуют там и блуждают, и корм насущный находят;
Всякую тварь понемногу питает бог милосердный,
Только он щедрой рукой кормить обещания не дал.
Так что в унынье впадать совсем, соседи, не нужно,
Видя, как день ото дня иссякают наши запасы.
Нам ведь не первый год терпеть нужду да лишенья,
Нам ведь не первый раз шюпинис варить без заправы,
Много в жизни своей проводили мы весен голодных,
Много мы перевидели и лет и осеней чёрных.
Вы, безбородые дурни, у старых людей расспросите,
Нужно вам крепко запомнить всё то, что они порасскажут!
Вы еще глупые дети и жизни не видели вовсе,
Как сосунки-поросята резвитесь, горя не зная, -
Но погодите - придут и для вас лихие денёчки,
Кукол своих и лошадок оставите вы помаленьку,
Как приниматься за дело и вас нужда приневолит.
Мы, чьи лица в морщинах и спины сгорблены горем,
Некогда так же, как вы, по улицам дружно скакали.
Лето свое молодое мы также справляли беспечно.
Думали ль мы, что поры осенней, горькой дождёмся,
Души измучим вконец и вскорости так захиреем.
Диву даёшься, как быстро скудеет век человечий!
Знаем, любой человек - то барин будь или бурас, -
В муках рождаясь на свет, возникает, как слабая почка.
Грудью кормясь материнской, час от часу он безмятежно
После, смотришь, растет и всё больше выходит из почки,
Но до цветка далеко: показаться не может он сразу.
Дней-то проходит изрядно, покуда из махонькой почки
Вся проклюнется вдруг красота, что прежде таилась.
Но не окрепло еще существо молодое - как, смотришь,
Горести тут же его без конца донимать начинают.
Разве не помним, друзья, что бывало с нами в ту пору,
Как мы играли детьми, еще неразумными вовсе.
Ах, наши дни золотые, куда вы навек улетели!
Осень и следом зима безжалостно вас истрепали,
Нам же, дедам, венки из седин возложили на темя,
Вот уж, соседи, опять мы старый год провожаем.
Всяческих горестей уйма отходит с ним также в забвенье.
Толком знать мы не можем того, что несёт и готовит
Вновь наступающий год и всё выше встающее солнце,
Хоть сохранит нас господь и жизни дни нам продолжит.
Гляньте: холодные пашни, чью мягкую спину мы летом
Резали плугом, сохою, зерном на ходу засевали,
Под ледяною корой и сугробами нынче укрылись.
Спят - и никак не откроют, что бог всемогущий замыслил,
Что рассчитал он, когда на свет мы еще не родились.
Нам его станет известно, как в гости, с помощью божьей,
Милое лето придёт и тепло мы снова почуем.
Этой заветной поры подождём терпеливо, соседи,
Будем ждать неустанно того, что на нивах родится.
Господи, боже ты наш! Не ты ли, небесный зиждитель,
В час изначальный, когда и думать еще не могли мы,
Наше рожденье замыслил и путь начертал нам грядущий.
Всё, что нам будет потребно, расчислил, как свет увидали.
Силу телесную дал нам и разум пытливый и острый,
Согласовал и желанья, и чувства, и помыслы наши,
Радости наши земные и горести мудро расчислил,
Каждому определив долготу его жизни на свете.
Вот уж старый год наконец уходит навеки,
С помощью крепкой твоей уходят также невзгоды,
Что не однажды стонать нас, нищих крестьян, заставляли.
Как же ты преходяще, веселое летнее время,
Вы, на лугах и полянах цветы, что блестите красою,
Также, пташки, и вы со своею песнею сладкой,
Вы, что в наших краях свой летний встретили праздник!
Вам ведь о хлебе и крове заботиться не было нужды.
Вы, прилетев весной, трудов тяжелых не знали,
Сеять, пахать, боронить, убирать - не нужно вам было.
Бремя забот неустанных влачить всемогущий вам не дал,
Вас обещал он кормить без трудов и забот повседневных.
Мы от рожденья сироты, мы все бедняки-горемыки, -
Видно, не можем, как вы, беспечно тешиться волей,
Ибо с младенческих лет приходят нас мучить невзгоды.
После всю жизнь от них избавления мы не находим.
Вот и в прошлом году: проводили мы светлую пасху,
Ради насущного хлеба немедля взялись за работу,
Без передышки всё лето старались и пота довольно
С разгоряченных лиц и лбов мы стёрли, покуда
Хлеб насущный собрали и спрятали после в сараи.
Ну, а теперь, проводив веселыми свадьбами осень,
Повеселившись пристойно, опять же подумаем вместе,
Как сохранить припасы. Итак, соседи честные,
Варим мы что-нибудь, или печём, иль что-нибудь жарим,
Думать о завтрашнем дне и о будущих днях не забудем.
Долго еще дожидаться, покуда лето настанет
И заклокочет в горшках похлебка из свежих припасов.
Ну, а теперь разойдёмся и дома, с помощью божьей.
Загодя плуги да сохи осмотрим и тут же наладим.
Полднями солнышко снова растапливать стало сугробы.
Жавронок снова запел, летая весело в небе.
Близятся мало-помалу весна и милое лето.
Всяких припасов оно наготовить нам обещает.
Но без поддержки твоей, господь, отец наш небесный,
Нам не достанутся в руки щедроты милого лета.
Что бесконечные сборы, и хлопоты все, и старанья,
Что из того, что, купив сошники и лукошки, с весною
В поле потянемся дружно и хлеб посеем как надо, -
Прахом, господь, пойдёт любое, что ни предпримем,
Ежели благословляющей нас не поддержишь рукою!
Нас ты заботой своей в минувшем году не оставил, -
Нас ты и впредь сохранишь и поддержишь силой своею.
Предугадать мы не можем, что лето с собою несет нам,
Ты же заранее знаешь, какие назначишь заботы.
Нам, существам неразумным, трудненько постичь твой порядок,
Бездною кажется нам глубина твоих помыслов чудных,
Если в них разумом слабым пытаемся вникнуть порою!
Не забывай же и впредь о нуждах наших, всевышний,
Милостив будь и тогда, как снова лето наступит
И на полосках томиться мы станем с зари до заката».
